18 августа 2025, 11:09
Как Обама создал всемогущую машину управления сознанием — и как она рухнула
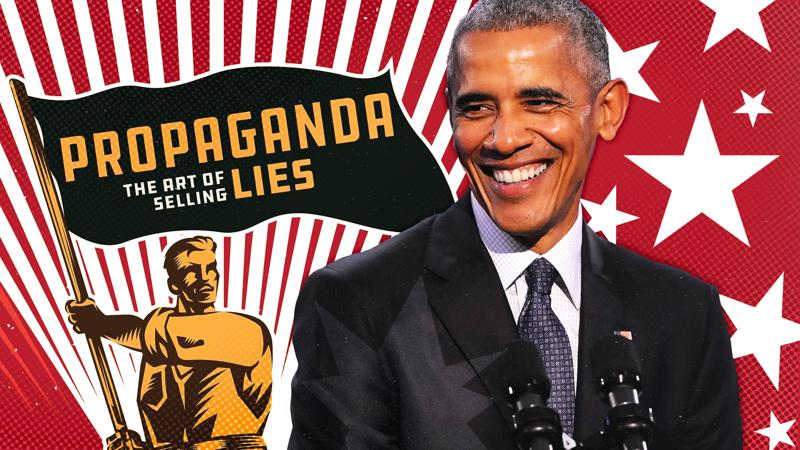
Если когда-нибудь в будущем найдётся тот, кто решит написать подлинную историю президентской кампании 2024 года, он, пожалуй, начнёт с простой истины: американская политика находится вниз по течению широкой, глубокой и многоводной реки под названием американская культура. Как и всякая река, она имеет своё русло, которое время от времени меняется под воздействием новых технологий. Эти технологии — будь то каналы и озёра, почтовая система, телеграф, железные дороги, радио, телевидение, интернет или же мгновенное объединение миллиардов людей в социальных сетях — перекраивают само пространство и время. Именно они задают правила, по которым рассказываются истории, формируются аудитории и выстраивается человеческая самоидентичность.
После 2000 года в нашей способности общаться друг с другом, воспринимать информацию и выстраивать картину окружающего мира произошли фундаментальные изменения. Это не просто сдвиг, а последствия перехода от медиареальности XX века к нынешнему цифровому ландшафту. Речь идёт о революции, происходящей, возможно, раз в пять столетий — настолько масштабной, что её последствия мы лишь начинаем осознавать. Эта трансформация фактически обнулила допущения и общественные формы прошлого века, сделав их устаревшими. Тем не менее десятки миллионов людей — включая тех, кто считает себя вершиной социальной и интеллектуальной пирамиды, — продолжают жить в иллюзии, будто мы всё ещё находимся в затянувшемся XX веке, начавшемся с появлением другой эпохи массовых коммуникаций: телеграфа, радио и кинематографа.
Иными словами, настало время для культурной революции — которая, согласно устоявшимся закономерностям американской истории, неизбежно должна была породить и революцию политическую.
Я впервые всерьёз заинтересовался тем, как цифровые технологии меняют политический ландшафт Америки, около десяти лет назад — когда писал для The New York Times Magazine материал о том, как Барак Обама продавал общественности свою ядерную сделку с Ираном. К моменту, когда я заинтересовался этой темой, результат кампании уже был предрешён: сделка стала краеугольным камнем внешней политики второго срока Обамы. Но всё это казалось мне странным — и не только потому, что американские евреи исторически играли ключевую роль в Демократической партии, обеспечивая её не только значительным числом избирателей, активистов и пиарщиков, но и масштабным финансированием. Странным был сам политический замысел: он явно подрывал основные принципы архитектуры безопасности США на Ближнем Востоке, чья цель на протяжении десятилетий заключалась в обеспечении стабильного притока ближневосточной нефти на мировые рынки — при минимальном вовлечении американских войск в региональные конфликты. Идея уравновешивать ревизионистскую, антиамериканскую державу вроде Ирана с традиционными союзниками США — такими как Саудовская Аравия и Израиль — казалась гарантированным рецептом дестабилизации, ведущей к тем самым военным вмешательствам, которых Обама якобы хотел избежать. Передача под контроль Ирана и его сети террористических прокси-групп ключевых морских маршрутов также едва ли способствовала бы стабильным поставкам нефти, от которых напрямую зависела способность торговых партнёров США в Европе и Азии покупать американские товары. Если смотреть на иранскую сделку с позиции классической американской геополитики, она попросту не имела смысла.
Однако в процессе работы над материалом я начал понимать: планы Обамы на Ближнем Востоке были не просто геополитическим манёвром. Это был инструмент — инструмент для переосмысления и перестройки самой Демократической партии. Частью этой трансформации стало перепрограммирование всей машины, которая формирует то, что выдающийся молодой политический теоретик Уолтер Липпманн ещё в 1922 году в своей книге назвал «общественным мнением».
Липпман был технократом-прогрессистом с Гарвардским образованием, искренне верившим в возможность управлять обществом сверху вниз и считавшим участие элит в этом процессе не только неизбежным, но и положительным явлением. Именно Липпман, а не Ноам Хомский, придумал выражение «производство согласия» и тем самым заложил интеллектуальную основу, в рамках которой американский правящий класс стал осмыслять как своё общее предназначение, так и конкретные инструменты, находящиеся в его распоряжении. «Сначала нам рассказывают о мире — и лишь потом мы его наблюдаем, — писал Липпман. — Мы воображаем себе большинство вещей до того, как сталкиваемся с ними напрямую. И эти предвосхищения, если только образование не научило нас замечать их остро и критически, глубоко формируют весь процесс восприятия». Или ещё короче: «То, как мир воображается, в каждый конкретный момент определяет, что будут делать люди».
Распад медиапирамиды XX века, на которой покоились допущения Липпманна, и её стремительная замена монопольными платформами социальных сетей открыли перед Белым домом Обамы новые возможности: не только продавать политику как продукт, но и заново формировать общественные установки, предрассудки и нормы. Фактически — как не раз говорил мне Бен Родс, главный спичрайтер Обамы и советник по нацбезопасности, по призванию писатель-фантаст, — крах эпохи печатного слова попросту не оставил Обаме выбора. Ему пришлось ковать новую реальность в онлайне.
Когда я писал о масштабной кампании Бена Родса по продвижению иранской сделки, я использовал термин «эхо-камеры». Так я описывал процесс, в рамках которого Белый дом, при поддержке целого круга аналитических центров и НПО, сформировал совершенно новый класс экспертов. Эти «эксперты» подтверждали авторитет друг друга в социальных сетях, продвигая утверждения, которые ранее считались бы маргинальными или попросту несостоятельными. Тем самым они нейтрализовали усилия традиционных специалистов и журналистов, пытавшихся удерживать официальных представителей власти в рамках честного публичного диалога. Создавая эти эхо-камеры, Белый дом запускал петли обратной связи, заранее просчитанные и управляемые умными и расчётливыми людьми внутри администрации. Так формировалось и направлялось восприятие не только журналистов и редакторов, но и сотрудников Конгресса — а в итоге и самой неуловимой субстанции под названием «общественное мнение», направлению которого они старались следовать. Если ты видел, как всё это устроено изнутри, становилось очевидно: то самое «новое общепринятое мнение» — вовсе не отражение чьих-то искренних убеждений. Это сознательная конструкция, созданная узким кругом операторов, которые с помощью новых технологий проектировали и контролировали масштабные нарративы. Эти нарративы распространялись через цифровые платформы и преподносились аудитории как её собственные, органично возникающие мысли и чувства, которыми люди затем с готовностью делились с людьми со схожими взглядами.
На мой взгляд, суть истории, которую я тогда описывал, заключалась не только в том, что это увлекательный пример того, как приёмы художественного письма могут использоваться в политических коммуникациях в соцсетях в качестве инструмента государственной стратегии. Её значение было двойным. Во-первых, она служила наглядным предупреждением о том, насколько сильно может различаться подлинная реальность и вымышленная реальность, грамотно сконструированная и управляемая из Белого дома. Таким образом открывалась совершенно новая возможность для катастрофы национального масштаба — подобной той, что случилась с войной в Ираке, которую, как и Родс с Обамой, я с самого начала считал ошибкой.
Во-вторых, я стремился показать, как на самом деле работала новая машина по созданию политических тезисов. Моё предположение заключалось в том, что это, возможно, не лучшая идея — позволять молодым помощникам Белого дома с дипломами магистров искусств (MFA) формировать «общественное мнение» с помощью своих айфонов и ноутбуков, а затем представлять результаты этой цифровой алхимии как нечто, сравнимое с плодами классических процессов репортажа и анализа XX века. Раньше за эти процессы отвечала так называемая «четвёртая власть», которая ещё тогда всё быстрее превращалась в придатки политических вертикалей, которые, в свою очередь, в значительной степени контролировались корпоративными интересами: от фармацевтических гигантов до производителей оружия. Вскоре вся эта машина, построенная Обамой и его командой, вместе с ключами от Белого дома должна была перейти к Хиллари Клинтон. Вопрос был том, что она собиралась с ней делать?
То, чего я тогда совершенно не ожидал, — это того, что преемником Обамы в Белом доме окажется не Хиллари Клинтон, а Дональд Трамп. Я также не предвидел, что сам Трамп вскоре станет мишенью масштабной кампании влияния, в которой будет задействован весь арсенал той самой машины, которую построил Обама, — вместе с инструментами американского силового и разведывательного аппарата. Как выяснилось, физически находиться в Белом доме — это лишь формальная часть власти. Куда более существенная её часть заключалась в контроле над цифровым пультом управления, который построил Обама — и, как оказалось, по-прежнему удерживал в своих руках.
Во времена президентства Трампа Обама воспользовался возможностями цифровой эпохи, чтобы выстроить для себя принципиально новый центр власти. Не формальный, но реальный, вращающийся вокруг его уникального положения: номинального, но намеренно не названного лидера Демократической партии, которую он успел перестроить по своему образу и подобию. После поражения Хиллари эта новая партия де-факто сменила собой «центристскую» неолиберальную машину Клинтонов 1990‑х. Так возникла Демократическая партия Обамы (ODP) — некое равновесное звено между властью и капиталом цифровых олигархов Силиконовой долины и их нью-йоркскими банкирами; интересами бюрократических и профессиональных элит, курсирующих между технокомпаниями, банками и надзорными структурами; собственными сектантски очерченными электоральными группами, классифицированными по расовым и этническим признакам в духе «POC» («people of color», небелые люди — п.п.), «MENA» («Middle East and North Africa», выходцы из стран Магриба и Ближнего Востока — п.п.), «Latinx» (гендерно-нейтральное обозначение латиноамериканцев — п.п.) — бюрократические ярлыки, за которыми скрывались искусственно сконструированные контейнеры для новой клиентелистской системы партии; и, наконец, миром финансируемых миллиардерами НПО, обеспечивавших партии и пехоту, и карательный корпус, необходимый для реализации социальных трансформаций.
Вся эта система в целом — а не просто умение формулировать остроумные или эффектные твиты — и представляла собой новую форму власти Демократической партии. Но ключевым элементом этой власти оставался контроль над цифровыми платформами и над тем, что на них показывается. История с ноутбуком Хантера Байдена ясно продемонстрировала, как именно работает этот механизм. Партийные стратеги организовали подписание письма, в котором 51 бывший высокопоставленный сотрудник американских разведывательных и силовых структур практически напрямую объявлял, что история про ноутбук — фейк, часть российской дезинформационной кампании. При этом большинство из подписавших прекрасно знали — или, по крайней мере, имели все основания полагать — что ноутбук настоящий, как и всё, что в нём содержалось. Тем не менее, это письмо стало поводом для цифровой цензуры: на его основе начали блокировать и запрещать распространение журналистских расследований, подтверждающих подлинность материалов. Более того, давался чёткий сигнал: если кто-то позволит себе распространять такие материалы, в будущем это может быть квалифицировано как преступление. Разумеется, официальной цензурой это не называлось. Ведь в тот момент в Белом доме находился не Обама и не Байден, а Трамп. И именно в этом и заключался главный урок: реальная власть — в том числе власть управлять государственными функциями — находилась совсем в другом месте.
Ещё более необычным — и тревожным — стало то, что произошло после поражения Трампа в 2020 году. С возвращением демократов к власти новая машина политических тезисов получила уже официальное подкрепление не только в виде социального и институционального давления, но и через силовые структуры федеральной бюрократии — от Министерства юстиции и ФБР до Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Машина заработала на полную мощность: подвергались цензуре и подавлению инакомыслия мнения по самым разным темам — от коронавируса и программ DEI до поведения полиции и последствий гормональной терапии и операций для подростков. Всё больше людей начинали ощущать давление со стороны внешней силы, которую они не могли точно обозначить. Ещё больше — просто замолкали. По сути, масштабные сдвиги в американской морали и общественном поведении начали проводиться в обход традиционных институтов и процедур представительной демократии. Всё это происходило через управляемую «сверху» машину социального давления, нередко подкреплённую угрозой правоохранительных органов или действий со стороны федеральных структур. Этот подход довольно быстро получил название «всеобщественный» подход.
На протяжении следующих четырёх лет это напоминало лихорадку, которая распространялась всё быстрее — и от которой не был застрахован никто. Супруги, дети, коллеги, начальство на работе — все вдруг с убеждённостью истинных адептов начали повторять лозунги, о которых узнали буквально на прошлой неделе и для которых зачастую не могли привести ни малейшего подтверждения в реальной жизни. Эти внезапные (порой за одну ночь) появления новых убеждений, выражений, речевых тиков, казались пугающе знакомыми. Это было похоже на массовые социальные заражения 1950-х годов, только теперь вместо помешанности на танцах или обручах для похудения одна за другой происходили эпизоды молниеносного политического просветления.
Как и в случае с трендами, подпитываемыми коммерцией, в этих новых «мыслительных вирусах» не было ничего случайного, мистического или органически возникшего. Лозунги вроде «сократите финансирование полиции», «структурный расизм», «белая привилегия», «дети не должны сидеть в клетках», «назначенный при рождении пол» или «остановите геноцид в Газе» появлялись и «мариновались» в средах, генерирующих мемы, — таких как университеты или активистские организации. Затем они либо случайно попадали либо целенаправленно внедрялись в различные нишевые сообщества и треды в Twitter или Reddit. Если идея начинала набирать обороты в этих пространствах, её подхватывали группы повыше — электоральные фракции и игроки Демократической партии. Используя контроль над вертикалями цифровых коммуникаций, они либо продвигали, либо подавляли истории, связанные с этими лозунгами, — а затем начинали преподносить эти ранее маргинальные позиции как новую моральную норму, обязательную для всех «приличных людей». Те же, кто возражал или просто не соглашался, автоматически записывались в ряды пещерных людей и ксенофобов. Дальше идеи превращались в реальность благодаря усилиям госчиновников, НПО и крупных корпораций: развешивались флаги, менялись вывески на туалетах, появлялись новые оплачиваемые выходные, а в офисы нанимали новых консультантов, которые проводили «тренинги» по актуальным темам. И всё это — в обход законодательных процедур, без голосований и без поддержки со стороны значительного числа избирателей.
Суть происходящего больше не имела ничего общего с тем, что Уолтер Липпманн называл «общественным мнением» — понятием, уходящими корнями в массовые аудитории радио и телевидения, которое предполагало более или менее достоверную корреляцию с актуальными или будущими предпочтениями широкого круга избирателей. Такое мнение — пусть даже в метафорическом смысле — всё ещё сохраняло связь с идеями XIX века об американской демократии, где намеренно выстраивался баланс между волей народа и представительскими институтами, как того и хотели отцы-основатели. Но новая цифровая версия «общественного мнения» формировалась уже совсем иначе — её основой стали алгоритмы, определяющие, как быстро распространяются тренды в социальных сетях. Здесь действовала формула: масса, умноженная на скорость, даёт импульс — и именно скорость становилась решающей переменной. Результатом стал стремительный и искажённый зеркальный мир, в котором доминируют мнения и убеждения самоназначенного руководства, управляющего цифровыми рычагами. И именно оно обладало возможностью задавать необходимое ускорение — чтобы за одну ночь изменить «то, во что верят люди».
Негласные соглашения, скрывавшие истинное устройство новой машины социального воздействия (включая роль Обамы, фактически управлявшего всей этой системой с вершины) и то, как эта система вытеснила привычную связь между общественным мнением и законодательным процессом, о которой поколения американцев читали в учебниках политологии XX века, позволили с лёгкостью высмеивать или игнорировать всех, кто осмеливался говорить очевидные вещи. Например: Джо Байден демонстрирует признаки явной деменции; американская государственность, включая её конституционные гарантии индивидуальных свобод и историческую систему сдержек и противовесов, вышла из-под контроля; слияние монопольных технокомпаний, спецслужб и медиа — это нечто нездоровое и опасное, угрожающее самой способности американцев свободно мыслить и говорить; ключевые культурные системы страны — от образования и науки до медицины, кино и издательств — на глазах приходят в упадок, оказавшись под контролем этой новой машины. Миллионы американцев начали ощущать растущую утомлённость от жизни в двойной реальности. Внешне они демонстрировали лояльность новому порядку — ради рабочих мест и во избежание травли или наказания. Внутренне же — всё чаще пребывали в недоумении и ужасе, наблюдая за тем, как разрушается привычная логика, стоящая за наблюдаемыми изменениями. Они видели это везде: в крахе законов и порядка в крупных городах; в фентаниловой эпидемии; в волне из 20 миллионов нелегальных мигрантов, пересекающих границу без проверки; в массовости диагноза гендерной дисфории среди подростков, особенно девочек; в резком и шокирующем снижении показателей общественного здоровья, продолжительности жизни и рождаемости.
Пока лихорадка наконец не прекратилась. Сегодня Дональд Трамп — победитель, а Барак Обама — проигравший. Причём не только в политическом смысле: он ужасно выглядит физически и кажется озлобленным и осунувшимся после лета и осени, проведённых в бесконечных наставлениях — и чёрным мужчинам, и американцам в целом — о том, как они недостаточно рьяно поддерживают его протеже Камалу Харрис, худшего кандидата от крупной партии в современной истории США. Полный крах проекта Обамы заставил партийных доноров чувствовать себя обманутыми. Даже Джордж Клуни теперь открещивается от него. А тем временем Трамп и Республиканская партия контролируют всё: Белый дом, Сенат, Палату представителей и даже Верховный суд.
Но сводить вопрос о том, что произошло с новой американской системой Барака Обамы, к результатам одной-единственной выборной кампании — значит до крайности упростить и обесценить как масштаб задуманного, так и поразительную внезапность, с которой всё рухнуло. Главный политический стратег своего времени не просто поставил на проигравшего кандидата. Разрушилась вся конструкция, которую он выстраивал более десяти лет и которая должна была стать его наследием — добрым или дурным, но исторически значимым. И внутри страны, и за её пределами — великий замысел Обамы был решительно отвергнут именно теми людьми, чью жизнь он намеревался перекроить. И вот в чём подлинная загадка: как и почему ни сам Обама, ни его армия технократов и придворных не разглядели фатальный изъян в созданной ими системе, пока не стало слишком поздно?
Теория и практика, лежавшие в основе молниеносного политического просветления цифровой эпохи, на самом деле вовсе не начались с Барака Обамы. По крайней мере в начале он сам был продуктом, который пытались продать. И источником этого явления была не сама по себе цифровая технология, хоть именно она и обеспечила новому зеркальному миру его поразительную скорость, эффективность и почти всеобъемлющую инфраструктуру.
Методология, на которой сегодня строится весь наш мир политического убеждения, появилась задолго до интернета и айфонов. Её истоки — в стремлении принести благо, выиграть выборы и преодолеть историческое наследие рабства и расизма в Америке. Её автором был Дэвид Аксельрод — человек, словно рождённый для того, чтобы стать великим американским рекламщиком: его отец был психологом, а мать — топ-менеджером легендарного рекламного агентства Young & Rubicam в Нью-Йорке времён эпохи «безумцев» (золотые годы рекламы в 60х — п.п.). Однако после самоубийства отца Аксельрод уехал из Нью-Йорка в Чикаго, поступил в Чикагский университет, а затем стал политическим репортёром в Chicago Tribune. Позже он перешёл в политический консалтинг, где специализировался на избирательных кампаниях чернокожих кандидатов в мэры в городах с преимущественно белым населением. В 2008 году именно Аксельрод стоял за успешной «мятежной» кампанией, которая сначала принесла Бараку Обаме победу над Хиллари Клинтон на праймериз Демократической партии, а затем вывела его в Белый дом.
Аксельрод впервые испытал свою уникальную теорию общественного мнения (которую он сам называл «структурами разрешения») в ходе успешной мэрской кампании 1989 года, когда он помог избраться молодому чернокожему сенатору Майку Уайту мэром Кливленда. Тогда как такие кандидаты, как Коулмэн Янг в Детройте и Мэрион Барри в Вашингтоне, обычно приходили к власти в 1970–80-х годах, опираясь на открытую расовую риторику, мобилизуя массовую поддержку чернокожих избирателей и противопоставляя себя «расистским» институтам власти, Уайт пошёл по совершенно иному пути. Его историческая кампания была нацелена на то, чтобы убедить белый, образованный и обеспеченный электорат проголосовать за чернокожего кандидата. И это сработало: Уайт получил 81 % голосов в преимущественно белых районах Кливленда, в то время как в чернокожих районах, где большинство составляли афроамериканцы, он набрал лишь 30 % — там избиратели поддержали его соперника и бывшего наставника по городскому совету Джорджа С. Форбса, также чёрного кандидата, но выступавшего с традиционной риторикой «чёрной силы».
«Структуры разрешения» — это заимствованный из рекламной сферы термин. Они были для Дэвида Аксельрода своего рода секретным ингредиентом, центральным понятием, вокруг которого он строил стратегию кампаний своих кандидатов. В то время как большинство политтехнологов работали по классической схеме (создавая наборы положительной и негативной рекламы, где хвалили своего кандидата и били по слабым местам оппонента), подход Аксельрода требовал совершенно другого инструментария. Его специализация заключалась в том, чтобы убедить белых избирателей преодолеть внутренние предубеждения и проголосовать за кандидатов, которых они могли воспринимать как «мягких по отношению к преступности» или «недостаточно компетентных». В 2008 году The New Republic опубликовали, на удивление, едва ли не единственный по-настоящему глубокий портрет работы Аксельрода. «Дэвид считал, что определённым белым избирателям буквально нужно создать „структуру разрешения“, чтобы они вообще могли рассмотреть чёрного кандидата», — объяснял Кен Снайдер, демократический стратег и протеже Аксельрода. В Кливленде такой «структурой разрешения» стала городская газета The Plain Dealer. Именно её поддержка, наряду с личной историей Уайта, позволила ему одержать убедительную победу: 81% голосов в белых районах города.
Иными словами, тогда как большинство политтехнологов стремятся либо приукрасить своего кандидата, либо очернить противника, опираясь на уже существующие ценности избирателей, стратегия Аксельрода заключается в противоположном: убедить людей действовать вопреки собственным прежним убеждениям. Более того, она предполагала замену этих убеждений, апеллируя не столько к взглядам избирателя, сколько к образу того человека, которым он хотел бы казаться в глазах окружающих. Несмотря на огромную практическую значимость феномена, академическая литература по теме «структур разрешения» на удивление скудна. Однако в наиболее общем виде этот термин обычно трактуется как создание «строительных лесов» — социальной опоры, позволяющей человеку принять изменения, которые он в иных условиях отверг бы. Такая «опора» может включать в себя: социальное доказательство («большинство людей в вашем положении уже сделали такой выбор»), новую информацию, изменившиеся обстоятельства, компромисс. Как сформулировал один из авторов: «В политическом контексте можно сказать, что эффективные структуры разрешения сдвигают окно Овертона, вводя в мейнстрим темы, которые раньше считались маргинальными или неприемлемыми».
Сама по себе идея соединить новые теории массовой психологии с новыми технологиями ради политического убеждения не была чем‑то новым. Уолтер Липпманн опирался в своей концепции общественного мнения на идеи венского рекламного гения Эдварда Бернейса — племянника Зигмунда Фрейда и основателя современной PR-индустрии. Появление телевидения ещё сильнее сблизило политическую рекламу и мир Мэдисон-авеню. Этот сдвиг ярко ответил Норман Мейлер в своём ставшем классикой эссе «Супермен в супермаркете», навеянном книгой Вэнса Паккарда «Потаенные уговариватели». В 1968 году писатель Джо Макиннис шокировал часть читателей своей книгой «Как продать президента» — хроникой создания телевизионной кампании Ричарда Никсона. В ней специалисты с Мэдисон-авеню успешно продавали Никсона так, словно он был моющим средством. Само звание «политический консультант» — это, в сущности, продукт телевизионной эпохи. Оно стало знаменем победы рекламщика над старомодной фигурой «менеджера кампании» — должности, введённой в американскую политику Мартином Ван Бюреном, «маленьким волшебником» из Киндерхука, Нью-Йорк, который основал Демократическую партию и привёл к власти Эндрю Джексона.

Неудивительно, что после успеха Дэвида Аксельрода в 1993 году — когда тот провёл Гарольда Вашингтона на пост первого чернокожего мэра Чикаго — молодой Барак Обама, уже мыслящий себя будущим президентом США, начал искать встречи с этим чикагским гуру политтехнологий, мечтая, чтобы именно он возглавил его кампанию. Но Аксельрод не проявлял интереса. Более того, Обама пытался завоевать его расположение более десяти лет, ведь тот был куда глубже интегрирован в политические круги Чикаго, чем сам Обама. Он надеялся, что Аксельрод предоставит ту самую «магию», которая поможет его карьере взлететь. Вторым чикагским влиятельным человеком, за благосклонность которого Обама отчаянно боролся, был Джесси Джексон-старший — глава Operation PUSH (НКО, занимавшаяся проблемами социальной справедливости, гражданскими правами и политическим активизмом — п.п.), самой влиятельной чёрной политической машины в городе. И он симпатизировал Обаме ещё меньше, чем Аксельрод. Правда заключалась в том, что лучше всего у Обамы складывались отношения с богатыми белыми — вроде членов совета Фонда Джойс или семьи Притцкеров.
Когда Аксельрод в конце концов согласился присоединиться к команде, он понял, что Обама — идеальный кандидат, способный подтвердить справедливость его теорий политического маркетинга уже в масштабах всей страны. Сначала он спроектировал успешную сенатскую кампанию Обамы в 2004 году. Эта победа стала возможной благодаря старомодному приёму: по запросу бывших коллег Аксельрода из Chicago Tribune были рассекречены бракоразводные документы республиканского кандидата Джека Райана, что нанесло сокрушительный удар по его репутации. А уже вскоре после этого начались президентские кампании Обамы, официально стартовавшие в 2007 году.
Это сработало. Но в Белом доме Аксельрод и Обама столкнулись с проблемой: институты, формирующие общественное мнение (прежде всего пресса, на которой и держалась вся концепция «структур разрешения»), начали стремительно разрушаться под натиском интернета. Газеты вроде Cleveland Plain Dealer и даже национальные телесети вроде CBS, на которые Аксельрод опирался как на источники общественной легитимации, теряли влияние и аудиторию, уступая место интернету и стремительно набирающим силу социальным сетям. Многие из этих медиа уже с трудом сводили концы с концами, лишившись монополии на зрителя и рекламодателя.
Когда на горизонте замаячила кампания по переизбранию Обамы в 2012 году, внимание Белого дома переключилось на то, чтобы «продать» обществу Obamacare — главный законодательный проект первого президентского срока. Но традиционные СМИ, на которые прежде можно было опереться, уже не были в состоянии удерживать внимание и доверие избирателей. Журналисты утратили былую силу, и Белому дому пришлось самостоятельно создать целый мир «валидаторов» — людей и структур, через которых можно было продвигать президентский план в социальных сетях. И у них это получилось. Эта кампания успешно маскировала тот факт, что новый закон о здравоохранении был, по сути, не улучшением системы, а формой перераспределения социальной помощи: он снижал, а не повышал уровень медицинского обслуживания для большинства американцев, у которых уже была страховка, в то время как десятки миллиардов долларов гарантированных выплат направлялись фармацевтическим гигантам, а издержки перекладывались на работодателей. Американцы продолжили платить за медицину больше, чем граждане любой другой развитой страны, получая при этом меньше.
Но с точки зрения объединения теорий Аксельрода и механизмов социальных сетей, продажа Obamacare — кампания, которая плавно перетекла в предвыборную гонку Обамы против Митта Ромни, — стала идеальным союзом. Настолько идеальным, что к 2013 году она превратилась в доминирующую управленческую модель Белого дома Обамы. В статье Reuters за 2013 год подробно объяснялось, как работает эта система: «В терминологии Обамы, путь к согласию требует структуры разрешения». Когда у пресс-секретаря Белого дома Джея Карни поинтересовались значением этой фразы, он пояснил, что это «распрострённое выражение» в обиходе администрации, уходящее корнями к избирательной кампании Обамы 2008 года. Поводом для статьи стало то, что Обама использовал термин «структуры разрешения» на пресс-конференции — чтобы объяснить, как он надеется преодолеть тупик в переговорах с республиканцами в Конгрессе. В ответ его высмеяли как «оторвавшегося от жизни зануду» — как ведущие колумнисты вашингтонских изданий (включая Морин Дауэл и Дану Милбэнк), так и сотрудники офиса лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла.
Шутка обернулась против них. То, что понял Белый дом и что я сам осознал во время работы над материалом о ядерной сделке с Ираном, заключалось вот в чём: социальные сети, ставшие теперь главным медиапространством, в котором существуют даже такие авторитетные старые издания, как The New York Times и NBC News, также могут рассматриваться и использоваться как гигантская автоматизированная машина по созданию «структур разрешения». А именно: если у тебя есть достаточно денег, ты можешь создать и запустить взаимоподкрепляющие сети экспертов и активистов, которые будут валидировать нужный тебе нарратив, в обход привычных форм проверки и анализа. Такой механизм способен ввести в заблуждение как медийных игроков, так и обычных пользователей, заставив их поверить в то, что идеи или лозунги, о которых они раньше никогда даже не слышали, — не просто правдоподобны, а уже являются нормой внутри их собственного круга, среди «людей как они».
Сделка с Ираном доказала: после краха способности профессиональных СМИ формировать реальность (ведь они больше не могли себе позволить содержать команды опытных, независимых репортёров) талантливый политик, находящийся в Белом доме, вполне способен выстроить собственную версию реальности. А затем с помощью механизмов группового давления и карьерных устремлений заставить других эту реальность принять. Более того, чем выше человек находился на социальной или профессиональной лестнице, тем уязвимее он оказывался перед этими технологиями. Это позволяло переориентировать целые профессиональные эшелоны внутри всё более хрупкой и неуверенной в себе элиты, статус которой оказывался под угрозой из‑за технологических сдвигов, подтачивающих не только их компетентность, но и само существование их профессий. В этом смысле сделка с Ираном стала своего рода генеральной репетицией перед «Рашагейтом» — моментом, когда так называемые «традиционные медиа» окончательно вплелись в партийную машину социальных сетей. Уважаемые имена вроде NBC News или «профессор Гарварда Лоуренс Трайб» стали регулярно появляться в эфире — порой неся откровенный абсурд, неизменно подкреплённый «источниками в высших эшелонах нацбезопасности» и другими «валидаторами». Всех их могли запустить или вовсе выдумать умные молодые помощники с ноутбуками, играющие в величайшую в мире видеоигру.
Однако масштаб того, как реальностью постоянно и системно манипулировали при помощи приёмов социальной психологии, адаптированных к интернету, долгое время оставался неочевидным для внешних наблюдателей. Особенно для тех, кто либо хотел видеть что-то иное, либо уже давно был приучен видеть что-то иное. Крах традиционной прессы и превращение флагманских медиа в рупор Демократической партии означали, что настоящих «внешних наблюдателей», способных подать сигнал тревоги, становилось всё меньше. Да и, в конце концов, срок Обамы подходил к концу. А Трамп, он же «Оранжевый мужик-Гитлер», — был на пути в Белый дом.
Кампания по дискредитации Трампа, изображавшая его «активом Кремля», якобы избранным по прямому указанию Владимира Путина, больше походила на сюжет мрачной политической сатиры, чем на нечто, что могли бы всерьёз поддерживать рациональные наблюдатели. Для тех, кто, как и я, освещал иранскую сделку, с самого начала было очевидно, что Рашагейт — это политическая операция, реализуемая по тем же лекалам и с участием во многом тех же людей. Знакомство с иранской сделкой позволило журналистам Tablet, особенно Ли Смиту, с самого начала увидеть в Рашагейте обман и понять методы, с помощью которых мейнстримная пресса распространяла эту выдумку.
Что меня действительно удивило — так это насколько одинокими оказались мои коллеги. Само существование журналистов-наблюдателей, лояльных читателю, а не какой-либо партии, было продуктом XX века. И эта система стремительно уходила в прошлое. Те, кто провозглашал приверженность объективным стандартам репортажа и отказывался от партийной идентичности, больше не работали в прессе — не после избрания Трампа. Если в тот момент и существовали рациональные аналитики, способные оценивать заявления о том, что президент США якобы контролируется Кремлём, то они прятались на кафедрах политологии где‑нибудь в периферийных университетах. Их голоса заглушала лавина пропаганды, основанной на «структурах разрешения» и ежедневно многократно усиливаемой на первых полосах The Washington Post и The New York Times — газет, которые при этом ещё и получали Пулитцеровские премии за публикацию своей чуши.
Само собой разумеется, что такая модель политики — где политтехнологи без конца играют с общественным сознанием в игры «структур разрешения», а прессу и аналитические центры охотно используют как вспомогательный инструмент партии, — куда больше напоминает финансовые пирамиды и агрессивные схемы сетевого маркетинга, чем взвешенные демократические обсуждения и дискуссии. На данном этапе вряд ли кого-то удивит утверждение, что эта модель социально токсична.
Важно отметить не просто сам масштаб происходящего, а конкретные заданные условия, которые превратили то, что могло бы остаться локальной политической кампанией, в событие общенационального масштаба. Именно поэтому утверждения, будто Демократическая и Республиканская партии в те годы обладали сопоставимым влиянием, можно считать либо злонамеренными, либо наивными — либо и тем и другим одновременно. После переизбрания Обамы в 2012 году массовый переход значительной части элиты Кремниевой долины на сторону демократов обернулся колоссальными вливаниями средств в партию и в её орбиту — фонды и НКО, финансируемые миллиардерами. Параллельно с этим росла и готовность технологических олигархов напрямую сотрудничать с Белым домом, ведь именно там, в теории, находился рычаг, способный уничтожить их квазимонополии через регулирование. Во множестве сфер — от вопросов пола и сексуальности до отношения церквей к ЛГБТ, от якобы нейтральных источников информации до электоральных практик, от внутрипартийных дискуссий в религиозных организациях до расовой повестки, от фильмов, которые смотрят американцы, до самих форм развлечений — олигархи вносили свой вклад, скупая ранее независимые общественные пространства и перенастраивая их на обслуживание партийной машины создания «структур разрешения». Свою роль играло и ФБР, сделав политические категории вроде «белого супрематизма» основными целями внутренней безопасности, а марионеточные организации, такие как ADL (Антидиффамационная лига; НКО, занимающаяся проблемами антисемитизма — п.п.) и ACLU (Американский союз защиты гражданских свобод — п.п.), играли роль «независимых наблюдателей», которые почему-то всегда приходили к тем же выводам, что и партия.
За Obamacare последовала ядерная сделка с Ираном, за ней — Рашагейт, а затем пришёл коронавирус. Информационная кампания вокруг пандемии стала четвёртой и самой масштабной «игрой в структуру разрешения», которую небольшие группы политтехнологов провели с американским обществом. Результатом стало фактическое лишение граждан самых базовых прав — таких, как право выйти из собственного дома или навестить умирающего родителя или ребёнка в больнице. Коронавирус также превратился в предлог для крупнейшего в истории США перераспределения богатства: сотни миллиардов долларов перетекли от представителей среднего и рабочего классов к богатейшему 1%. Но самым тревожным последствием стало то, что коронавирусоказался удобным инструментом для радикального преобразования избирательной системы, а также трамплином для целого ряда попыток социальных переворотов, в поддержку которых временно отменялись законы о запрете массовых собраний, мародёрства и уличного насилия — ведь всё это подавалось как отражение «общественного мнения», проявленного в соцсетях.
Когда коронавирус стал прикрытием для всё более радикальных и стремительных вспышек внезапного политического просветления, всё больше ранее молчаливых граждан начали восставать против нового порядка. Не в силах точно определить источник происходящего, они обрушивали вину на элиты, медицинские ведомства, «глубинное государство», Клауса Шваба, лидеров Black Lives Matter, Билла Гейтса и десятки других — более или менее зловещих — фигур, не понимая, какой именно механизм порождает одну за другой этих «мыслительных зараз» и наделяет их силой закона. Игра на самом деле была настолько новой, что даже Дональд Трамп не осознал её сути — пока уже не стало слишком поздно для его переизбрания. Он поддерживал локдауны и вакцины, но не обратил должного внимания на действия юристов Демократической партии, которые переписывали избирательные законы в ключевых штатах. После того как Джо Байден благополучно устроился в Белом доме, партия Обамы смогла рассчитывать на спокойное будущее: под защитой новых избирательных нормам, с контролем над основными информационными платформами, ФБР, самим Белым домом, а также государственной кампанией юридического давления против Трампа. Казалось, партия обрела вечную власть — и проиграть выборы в ближайшие десятилетия было уже невозможно.
К сегодняшнему моменту в истории западной культуры само понятие «модерн» — заметно устаревшее. Будь то человек, предмет или стиль — мы точно знаем, как он себя ведёт и как нам следует на это реагировать. Модерн — это персонаж раннего романа Ивлина Во: хладнокровный перед лицом нового. По другую сторону баррикад находится консерватор, отвергающий новое ради вечных истин, будь то древнегреческая мудрость или учение Церкви. Оба архетипа — по праву комичны, с оттенком трагичности. Или наоборот — трагичны с примесью комичности. Всё зависит от наблюдателя — то есть нас с вами.
Механизм «структур разрешения», который Барак Обама и Дэвид Аксельрод выстроили взамен Демократической партии, по своей сути был ни модернистским, ни консервативным. Его суть — тоталитарна. Это устройство, заставляющее людей действовать вопреки собственным убеждениям, подменяя их новыми, «лучшими» — с помощью управляемого сверху социального давления, помимо прочего устраняющего саму возможность оставаться сторонним наблюдателем. Целостность индивида при этом нарушается во имя продвижения высших интересов «сверх-я» человечества, то есть Партии, которая знает, какие убеждения правильны, а какие — нет. Партия становится «призраком в машине», работающей будто бы на автопилоте, но питаемой человеческим стремлением к чувству принадлежности и связи с другими. Эта энергия направляется на то, чтобы оторвать человека от собственных желаний и навязать ему волю Партии, которой предоставлено неограниченное право навязывать свои «высшие мнения» всему человечеству.
Создание гигантской машины «структур разрешения», способной механизировать формирование общественного мнения через социальные сети, никогда не входило в намерения Дэвида Аксельрода. Его цель была благороднее: он хотел сделать общество лучше, предоставив белым избирателям возможность последовать зову своей совести и выбирать чернокожих мэров — несмотря на собственные расистские предубеждения. С тем, что расизм — это зло, согласятся все. Как и с тем, что бедность — это зло. Болезни — тоже. Но главный вопрос в другом: настолько ли тот или иной случай расизма, бедности или болезни ужасен, чтобы в борьбе с ним можно было попрать все остальные человеческие ценности, включая ценность самостоятельной мысли и личного чувства? Если ваш ответ — «да», значит, вы решили доверять не сфере живых человеческих связей, а некоей внешней, подавляюще могущественной машине, в которой надеетесь узреть воплощение своей идеи справедливости. Это и есть тоталитаризм — или, как писал Джордж Оруэлл в «1984», образ «сапога, навечно топчущего лицо человека».
Каждая форма тоталитаризма уникальна. Нацистский фашизм отличался своей патологической ненавистью к евреям, которых он одновременно обвинял и в грехах капитализма, и в преступлениях коммунизма, а также «промышленной эффективностью», с которой осуществлялась программа массового уничтожения. Советский коммунизм был уникален тем, что просуществовал значительно дольше нацизма — и породил особую форму цинизма. Если конечным итогом нацизма стал Аушвиц, то итогом советского коммунизма стали шутки про черту бедности и очереди за едой. Советский цинизм был логичным результатом метода управления: режим требовал от подданных абсолютного внешнего повиновения линии Партии (в словах и поступках), но при этом допускал существование внутреннего мира, где человек мог думать что угодно, если только он не решался воплотить это в действиях. Естественным результатом такой системы стало повиновение без веры.
Эффект машины «структур разрешения» заключается в том, чтобы внедрить и поддерживать послушание голосам, звучащим извне, — даже если они явно противоречат здравому смыслу и логике. Клинический термин для такого состояния — шизофрения. Это понятие глубоко укоренилось в культурном воображении XX века — как в массовой литературе (например, «Я никогда не обещала тебе розовый сад» и «Сибил»), так и в теориях психиатрии и философии (у Р. Д. Лэнга («Раздвоенное Я») или Жиля Делёза («Анти-Эдип: капитализм и шизофрения»)). Среди выдающихся произведений в этом жанре — «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи, «Игры разума» Сильвии Насар, самобытный «Дом листьев», мемуары «Angelhead» Грега Боттомса и десятки других. Этот жанр объединяет одно: естественная реакция на появление внешнего голоса — ужас.
Так было не всегда. Ни греческая, ни еврейская литература — два великих повествовательных течения, из которых сформировалась та культура, которую мы сегодня называем западной, — не содержат ничего похожего на современное понятие внутреннего монолога. Зато они полны говорящих кустов, растений и животных. А главное — они полны голосов богов, включая самого Бога, которые обращаются к человеку повсюду: на вершинах гор, в пустыне, на дороге в Дамаск. Авраам, Моисей, Иезекииль, Иисус и Павел — все слышали голоса. По мнению Джулиана Джейнса, учёного из Принстона и автора книги «Происхождение сознания в крушении бикамерального разума», сознание человека возникло не как биохимическое следствие эволюции, а как приобретённый навык, появившийся с развитием метафорического языка. До появления сознания, утверждает Джейнс, человек действовал в рамках иного ментального устройства — так называемого бикамерального разума, при котором внутренний диалог заменяли регулярные слуховые галлюцинации, воспринимаемые как приказы извне.
Машина «структур разрешения» стремится обратить вспять тысячелетний процесс становления сознания, заново переместив его источник изнутри личности — наружу, при этом маскируя внешние команды под внутренние побуждения с помощью механизированного распространения того, что марксисты называли «ложным сознанием». Однако в отличие от марксистской концепции, где угнетатели навязывают «ложное сознание» и оно работает в интересах капиталистического порядка, в данном случае ложное сознание выступает как позитивный инструмент: орудие партии в её стремлении установить царство справедливости на земле. Именно поэтому естественным итогом автоматизации таких структур становится не юмор, каким бы циничным он не был, как в позднесоветской системе, а институционализированная шизофрения, встроенная в логику бикамерального сознания. Кем бы ни притворялись боты, управляющие этим механизмом, ради какой бы мелкой выгоды ни работали, они всегда слушают команды извне. У них нет своей истины — и потому они не могут говорить правду. Они — порождения машины.
Чтобы проломить созданный Обамой аппарат ложного сознания, потребовалось трое влиятельных людей. Каждый из них действовал открыто, на глазах у всего мира, и их поступки имели масштабные и вполне осязаемые последствия. Своими действиями они, как минимум на время, спасли мир. История ещё оценит, насколько прочным окажется их наследие, но одно ясно уже сейчас: если бы не они, мы бы до сих пор жили внутри этой машины.
Первым из этих людей был Илон Маск, известный тем, что приобрёл Twitter в 2022 году — уже после того, как Джо Байден укрепился в Белом доме, а сама соцсеть, казалось, приближалась к пределу своей полезности. Сделка была представлена тогда (и остаётся таковой до сих пор) как нечто чрезмерное — Twitter обошёлся Маску в колоссальные 44 миллиарда долларов. Twitter, конечно, не был тождественен машине «структуры разрешения» — той системе формирования общественного мнения, которую построили Барак Обама, Дэвид Аксельрод, Дэвид Плафф, Дэн Пфайфер, Бен Родс и другие архитекторы нового облика Демократической партии. Эта машина была куда больше любой одной социальной платформы. Однако благодаря тому, что Twitter оказался первым в своей категории и занял особое место в социологии журналистики и смежных профессий, он получил ключевую роль в тонкой настройке сигналов и координации — процессах, на которых зиждилась работа всей машины «структур разрешения».
Значение Twitter как части машины «структуры разрешения» партии было особенно велико, потому что, как показывает история таких платформ и компаний, как Facebook, Google, Uber, Instagram и TikTok, преимущества масштаба почти неизбежно ведут к образованию локальных монополий. Twitter мог исполнять свою функцию сигнализирования и координирования именно потому, что фактически был монополией — из-за чего у Обамы, Аксельрода, Плаффа и других были там аккаунты. По этой же причине к платформе подключилось ФБР — чтобы гарантировать, что её идеологическое направление будет согласовано с ролью ФБР в партийной «всеобъемлющей» кампании цензуры, направленной против «дезинформации», ковидных и карантинных сомнений, «белого превосходства», Дональда Трампа или «мятежников». Так почему же столь важный модуль «структуры разрешения» был продан Илону Маску?
Частично причиной, по-видимому, стала цена. 44 миллиарда долларов, которые в итоге заплатил Маск, похоже, как минимум вдвое превышали сумму, предлагаемую любой другой потенциальной группой покупателей. Вполне возможно, что, приняв решение продать Twitter, совет директоров компании оказался в ловушке — как с практической, так и с юридической точки зрения — ведь Маск заявил, что цена для него не имеет значения и он готов потратить гораздо больше любого другого претендента. Совет директоров Twitter, как и те, с кем они консультировались внутри вертикали Демократической партии Обамы (ODP), могли полагать, что Маск найдёт предлог, чтобы в последний момент отказаться от сделки — что на разных этапах действительно выглядело именно так, хотя его нерешительность вполне могла быть лишь частью переговорной тактики.
Вполне возможно, что кто-то из окружения Обамы понимал, какую угрозу представляет продажа Twitter Маску. Но тот факт, что сделка всё же состоялась, говорит о другом: как и в случае с юридической войной против Трампа, они высокомерно поверили в собственную пропагандистскую картину мира, где их противник — коррумпированный, алчный и слабый, а они сами обладают безусловным моральным и практическим превосходством. Неспособные мыслить за пределами собственного шаблона, они, вероятно, рассчитывали, что Маска можно будет удержать в рамках, опираясь на его зависимость от рекламодателей — то есть, сохраняя прежний уклон алгоритмов Twitter до тех пор, пока платформа хоть насколько-то остаётся важной. Чтобы держать Маска в узде, партия могла бы в любой момент обрушить рекламные доходы платформы на 50% и более — при помощи своих структур, занятых в индустрии цензуры, которые могли бы окрестить Twitter рассадником расизма и разврата и добиться его блокировки в Европе и на других мировых рынках. По мере нарастания репутационных потерь у Маска оставался бы лишь один выход: смириться с многомиллиардными убытками и продать платформу или столкнуться с уничтожением других своих компаний — что партия могла бы ускорить, разорвав контракты с NASA и другими государственными структурами, а также инициировав череду расследований SEC и Минюста, которые ещё больше усилили бы репутационные риски, пока он не согласится «поцеловать перстень».
Эта стратегия провалилась по той же причине, что и расчёты команды Обамы в отношении Трампа: архитекторы «структуры разрешения» сами стали пленниками построенного ими механизма. Принуждение массы к маниакальному гиперконформизму, манипулируя механизмами социального одобрения, действительно требует и денег, и умения, но к искусству или мышлению это отношения не имеет. Наоборот — это нечто противоположное мышлению. Заблудившись в созданном ими накалённом зеркальном мире, они решили, что раз уж им удалось сделать себя «крутыми», значит, они автоматически и правы, а любые обратные доводы можно без опасений отвергнуть как «пункт правоконсервативной повестки». Сотрудники Обамы страдали той же характерной слабостью, что и их патрон — хрупким, типичным всезнайством выпускников университетов Лиги Плюща, требующим, чтобы они неизменно оставались самыми умными людьми в комнате.

Маск же, напротив, оставался абсолютно и искренне самостоятельной фигурой. Это было возможно отчасти потому, что он был самым богатым человеком в Америке, а отчасти благодаря специфике его бизнеса, которую кадры Обамы, похоже, не до конца поняли. Маск действительно заплатил за Twitter вдвое больше любого другого потенциального покупателя — если таковые вообще существовали. Но как бизнес-актив Twitter был Маску намного ценнее, чем кому-либо ещё с сопоставимыми финансовыми возможностями. Причина в том, что ценность, которую Маск создаёт в своих компаниях, — это уникальное сочетание масштабного воображения и физических продуктов, которые одновременно функционируют как мемы. В этой области он понимал Twitter и «структуру разрешения» даже лучше, чем сами её операторы. Купить Tesla — или акции Tesla — не то же самое, что вложиться в GM, Daimler-Benz или даже Google и Facebook: вы покупаете долю в самом Илоне Маске — мастере технологий XXI века, способном вообразить невозможное и воплотить его в материальную реальность. Компании Маска оцениваются в сотни миллиардов долларов именно благодаря его способности превращать мечты в реальные продукты и вдохновлять на это команды талантливых людей. Инвесторы покупают части этих мечт, этих «чудес» — элементов самоисполняющейся веры в силу личности.
Столкнувшись с усиливающейся прямой цензурой в социальных сетях со стороны партии, Маск прекрасно понял то, чего не осознавали его оппоненты: стремление партии к контролю над контентом означало, что он сам находится в опасной близости от потери контроля над своим личным «пространством мечты» — тем самым пространством, которое составляет значительную часть ценности его компаний. После того как Дональда Трампа, бывшего президента США, выгнали из Twitter, ситуация стала предельно ясной: либо Twitter уйдет под контроль партии — и тогда следующим кандидатом на теневой бан, «фактчекинг» и окончательную цифровую ссылку станет сам Маск, что обернётся для его личного бренда, а значит и для его компаний, потерями на сотни миллиардов долларов; либо же Маск сможет перехватить контроль над этим пространством, просто купив Twitter. Если сравнить вероятные убытки от блокировки и невозможность привлекать государственный и частный капитал, то 44 миллиарда долларов были вполне разумной ценой, которую стоило заплатить. Единственным слабым местом в плане Маска было ожидание того, что партия окажется достаточно глупа, чтобы действительно продать ему Twitter. К счастью — и к немалому изумлению — она действительно оказалась настолько глупа, при этом наперебой рассказывая о том, какой Маск, мол, простофиля.
Сейчас уже совершенно ясно: простофилей оказалась партия Обамы, а вовсе не Маск. Более того, их запоздалая война с новым владельцем Twitter только убедила других олигархов Силиконовой долины в том, что любые репутационные риски, которые они могли бы понести, поддержав Дональда Трампа, меркнут перед прямыми угрозами, исходящими от превращения партии в инструмент для силового захвата регулирующих органов — инструмент, позволивший ей эффективно контролировать рынки и банки и, следовательно, угрожать их бизнесу. Допустив продажу Twitter, а затем начав войну против его нового владельца в тщетной попытке заставить его подчиниться, партия Обамы наглядно продемонстрировала как масштаб своих амбиций, так и степень своего высокомерия — сочетание, которое раскололо олигархию страны накануне ключевых выборов, способных окончательно закрепить власть этой партии.
Теперь, когда X под руководством Маска стал открыт для всех, цензурный аппарат партии фактически погиб. На его месте возникла новая машина контрструктур разрешения, допускающая к высказыванию самые разные мнения — как новые и здравые, так и неприятные и вредные. Именно так и должна функционировать сфера мнений в свободном обществе.
Решение Илона Маска купить Twitter стало, в свою очередь, необходимым условием для избрания Дональда Трампа — что, в свою очередь, стало возможным благодаря его мгновенному, почти инстинктивному решению 13 июля 2024 года повернуть голову буквально на долю градуса вправо во время выступления в поле под Батлером, штат Пенсильвания.
Поворот головы Трампа стал идеальным примером события, которое невозможно объяснить иначе как милостью богов — или, если угодно, современным её эквивалентом в виде ветровых факторов и вероятностных направлений, который может вам нравиться больше слова «Бог». Трампу было суждено победить, как Ахиллу было суждено одолеть Гектора, потому что боги — или силы вселенской случайности, если так вам ближе, — были на его стороне в тот день, в тот миг. Это движение не только спасло ему жизнь, позволив уклониться от пули убийцы; оно перезапустило его жизненную энергию, его ци, и запустило цепь событий, которая привела к переустройству всего мира.
А затем на арену вернулся премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, придав этой истории поистине эпическое измерение, вновь оказавшись на изначальном поле битвы. Напомним, что Биби в своё время исполнял роль «пиньяты» Обамы в борьбе вокруг иранской ядерной сделки — ему было предначертано потерпеть поражение за смелость выступить против воли действующего президента США по внешнеполитическому вопросу, который, по большому счёту, мало волновал американцев. Но минувшим летом Нетаньяху стал активной стороной — с возможностью перечеркнуть достижение Обамы и обнажить истоки его захвата власти, показав, что «мирное соглашение», проданное американской публике под вывеской необходимости уравновешивания региональных сил, изначально строилось на лжи. Иран никогда не был серьёзной региональной державой, способной «сбалансировать» традиционных союзников США. Это тоталитарный ад на земле, ненавидимый собственным народом и соседями, полностью зависящий от американской поддержки в своих попытках заполучить ядерное оружие.
Решение Нетаньяху начать наступление на Рафах 6 мая 2024 года стало кульминацией двух длинных и внешне независимых цепочек событий, чьи последствия ещё долго будут отзываться как на Ближнем Востоке, так и внутри страны. С февраля Нетаньяху неоднократно обещал войти в Рафах. То, что к маю он этого так и не сделал, превратилось в символ слабости Израиля и нерешительности перед лицом глобальной волны ненависти к евреям — а также в подтверждение устойчивости регионального порядка, установленного иранской сделкой Обамы. В рамках этого порядка израильские интересы считались вторичными по отношению к интересам Ирана, которому было позволено финансировать, вооружать и обучать крупные террористические армии у израильских границ. Даже когда одна из этих армий предприняла нападение на Израиль — устроив бойню и изнасилования мирных жителей, транслируя происходящее в прямом эфире, — ответ Израиля должен был оставаться ограниченным, подчёркивая его подчинённое положение в региональной иерархии. Это закрепляло реальность, в которой Израиль обречён пресмыкаться перед капризами американского хозяина — и, рано или поздно, быть стёртым в пыль.
Израиль не мог ударить по Ирану. Он также не мог напрямую атаковать «Хезболлу» — крупнейшую и наиболее опасную из иранских прокси-армий на своей границе — за исключением ответных ударов на ракетные обстрелы своего гражданского населения. Он мог вторгнуться в Газу, но только под аккомпанемент публичных упрёков со стороны американских официальных лиц — от президента до госсекретаря — за якобы нарушения законов войны, которые, казалось, зачастую придумывались на ходу и были полностью оторваны от реальной военной практики и необходимости. Особенно жёстким было табу на вторжение в Рафах — запрет, позволявший ХАМАСу регулярно получать припасы и деньги через тоннели под границей с Египтом и сохранять свою структуру командования и управления. Это обеспечивало возможность возвращения ХАМАСа к контролю над Газой после завершения войны, тем самым гарантируя успех американской политики, суть которой заключалась в том, что военная операция Израиля в Газе должна послужить прологом к созданию палестинского государства — проекта, в котором ХАМАС выступал необходимым партнёром, представляющим интересы Ирана и потому подлежащим не полному уничтожению, а лишь «умеренной» ослабляющей коррекции.

Решение Нетаньяху ослушаться США и взять Рафах оказалось прелюдией к целой серии ошеломляющих стратегических шагов, позволивших Израилю сокрушить иранские позиции в регионе и взять под полный контроль собственную судьбу. После взятия Рафаха — кампании, которую Вашингтон объявил невозможной без масштабных жертв среди мирного населения, — Нетаньяху пошёл ва-банк и нанёс серию молниеносных ударов, сравнимых разве что с исторической победой Израиля в Шестидневной войне. И даже это сравнение может оказаться несправедливым по отношению к Нетаньяху, поскольку он продемонстрировал миру редчайший пример того, как изолированная «клиентела» перекраивает стратегическую карту региона вопреки воле доминирующей глобальной державы. Нетаньяху ликвидировал главарей террористов — Яхью Синуара и Хасана Насраллу; практически полностью уничтожил высшее военное и политическое руководство двух террористических армий на границах Израиля — ХАМАС и «Хезболлы»; превратил в руины как Газу, так и укреплённые районы «Хезболлы» на юге Ливана и в Бейруте; а на прошлой неделе нанёс завершающий удар по арсеналам сирийской армии, накопленным за последние шесть десятилетий: современным танкам, самолётам, военно-морским силам, заводам по производству химического оружия и ракет.
Вопрос о том, когда и каким образом падёт иранский режим, пока остаётся открытым. Но совершенно очевидно, что воображаемый новый региональный порядок Ближнего Востока, который строил Обама и в центре которого он помещал мнимую мощь аятолл, теперь разрушен. Он рассыпался при первом столкновении с неожиданной готовностью и способностью Нетаньяху активно защищать свою крепость. Какую роль сыграла личная обида Байдена на Обаму — особенно после унизительного снятия его с президентской гонки — в его демонстративной поддержке Израиля и неоднократных публичных заявлениях о собственной сионистской позиции, остаётся на усмотрение будущих историков и воображение читателя. Но вряд ли эта роль была нулевой. В который раз роковой ошибкой команды Обамы, как в случае с Маском, стала высокомерная самоуверенность.
Параллельно с крахом нового ближневосточного порядка, установленного Обамой, развалился и возглавляемый им внутренний порядок в самих Соединённых Штатах. Это совпадение знаменует собой конец претензий Обамы на роль лидера нового типа — вершителя нового мирового устройства, управляемого с его iPhone и основанного на странной смеси нигилизма и морализаторства.
Более того, можно утверждать, что это вовсе не совпадение, поскольку разделение между внешнеполитической программой Обамы и его ролью внутри страны по сути искусственно. В своей основе ядерная сделка с Ираном была попыткой перестроить Демократическую партию по образу и подобию самого Обамы, сделав верность аятоллам своего рода лакмусовой бумажкой для партийной лояльности. Это позволяло продвигать «прогрессивные» POC-группы из третьего мира за счёт евреев, которые мешали основам идеологии DEI тем, что хорошо сдавали стандартизированные тесты, зарабатывали деньги и оставались раздражающе преданными Биллу и Хиллари Клинтон — главным соперникам Обамы в борьбе за контроль над партией. В то же время недавний крах созданного Обамой ближневосточного порядка способствовал дальнейшему разрушению его ореола, показав, что его грандиозное видение роли Америки в мире было лишь карточным домиком. Если Обама как глобальный стратег оказался явным провалом, а его подобранные преемники внутри страны — это один старик в маразме и одна несущая чушь пустышка, тогда у корпоративной элиты и технологических олигархов страны были все основания усомниться в целесообразности продолжения выплат чикагской машине Демпартии Обамы — и пойти на мировую с Дональдом Трампом. Что они, собственно, и сделали.
Но не стоит забывать: Америка вряд ли станет лучшим местом, если сотрудники Белого дома продолжают формировать «общественное мнение» при помощи ноутбуков и айфонов, легитимируя вымышленные добродетельные кампании на любые темы — от «гендерно-аффирмативных» операций для детей до призывов упразднить полицию. Но столь же маловероятно, что страна станет лучше, если правые начнут использовать ту же самую машину ради собственных грёз — наряжаясь в мантии чужих церквей, восхищаясь секретными инопланетными технологиями и сетуя на злодеяния союзников во Второй мировой войне. По сути, обе эти группы многое роднит — начиная с их глубинного отторжения самой идеи американской уникальности. А ведь именно исключительность остаётся главной сквозной идеей американского величия — и сегодня, кажется, только Дональд Трамп по-настоящему стоит на её защите.
В конце концов, возможно, Илон Маск целыми днями принимает кетамин и бродит по коридорам собственного разума в лиловом шелковом кафтане. Дональд Трамп может быть агентом хаоса, который разрушает больше, чем спасает. Биньямин Нетаньяху может заключить мир с наследным принцем Саудовской Аравии, который сам может оказаться как хорошим, так и опасным человеком. Но каковы бы ни были их изъяны, всех троих объединяло одно важное качество в критический момент истории — они доверяли собственной упрямой воле, а не зеркальному миру цифрового конформизма. Будущее человечества зависит от того, хватит ли смелости и независимости у отдельных людей — вне зависимости от их партийной принадлежности или идеологических взглядов — сделать тот же выбор.
Что касается Барака Обамы, то должен признаться — я не был уверен, что когда-либо увижу, как он столкнётся с последствиями своей собственной самонадеянности, одержимости личной властью и стремления уничтожить исключительность, которая делает эту страну непохожей на любую другую. Но, как однажды сказал один мудрый человек: «Жизнь — та ещё сука».




